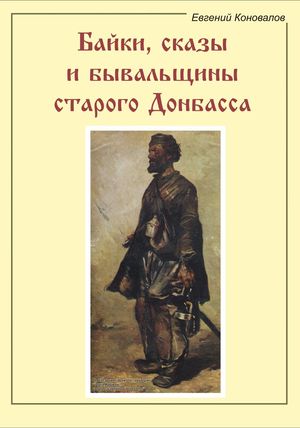Евгений Коновалов. Караульщик огневого камня
Дошло от старожилов, что сказ этот слыхивал в давние-предавние времена сам Григорий Иванович Капустин. Тот самый рудознавец, что был царем Петром послан в Дикую степь горючий камень искать. А сказ такой.
Бежал из Московии в степную сторону молодой холоп Никита.
Бежал тайными тропами через леса, долы и реки, минуя Святы горы, в необжитые места – во чисто поле. К макушке лета окончил путь.
Вольготствует. Степь кормит, родник поит. Ляжет беглый в высокую траву, распластавшись – в синеву неба глядит, а там в синеве жаворонок вольным сердцем трепещет. Где-то на пригорке посвистывает сурок-байбак. Звенит степь, волнуется.
Серебрится ковыльное море, колышется в мареве.
Долго ли тешился волюшкой Никита, однако ж, заскучал вскоре по живой душе. Взберется на высокий курган и глядит подолгу вдаль – не усмотрит ли, случаем кого. Видал однажды, как шли вальяжно к водопою величавые дрофы.
А одного разу прокинулся в страхе от большого трясения земли.
Дрожала степь. То исполинский табун диких коней топотом копыт пробудил дремавшие холмы. Взвились в испуге степные птицы. Бежали с насиженных мест кабаны, козы и прочая полевая мелочь.
Через малое время приноровился Никита степную книгу читать. По звездам час ночи узнавал, по солнцу дневную пору. По тому, куда ветрило гонит облака, стал разуметь, будет ли дождь или утвердится напасть-засуха. По закатам и восходам верно знал, каким будет грядущий день.
Примечал повадки зверя: ежели желтобрюхий полоз, к примеру, с утра на песчаных камнях греется – к жаре, а коль просто на земле, растянувшись во всю длину – к долгой непогоде. Если орлы-могильники и змееяды кружат над одним местом и клекочут, стало быть, где-то неподалеку в траве или в камнях пала какая животина.
Долгонько ходил степью Никита, чтоб живую человеческую душу сыскать, все даром. Велика степь, а тут лето на нет сошло. Дни ста ли короче. Пожухли травы. Небо затянулось низкими тучами. Застонал, задул холодный ветер и погнал по степи лохматые клубки перекати-поля.
Стаями, и косяками оставляла обжитые места большая и малая птица. Облысели курганы. Заморосил холодный дождик. Вот туг-то и спохватился парень: как дальше жить-поживать? Все ж не пал духом. В ближней балке сыскал земляную дыру, расковырял ее, чтоб пошире была и приготовился в ней зимовать. Из веток соорудил навес, а под тот навес сухой хворост слагает да уминает впрок. Для очага. А очаг у него прост. С полдюжины камней глиной обмазанных. И только. Надеялся он на недолгую зиму. Чаял: недель через пять-шесть минет злая! С харчем куда проще. Всякий день в силок что-нибудь да попадется. Зверье-то непуганое, доверчивое.
Поздней осенью свет короток – тьма долга. Сидит в своей норе Никита, разные думы думает. Про все, что с ним сталось. Не радостно ему вовсе, а хмуро на душе. Под стать непогоде. Одного разу такая кручина подступила к сердцу, что пожелал он тут же немедля идти на люди возвратным путем. И пошел, если б не ветхая обувка-одежка. Спохватился вовремя: не дойду! Сгину в пути! Так и остался у огня сидеть сиднем.
Напала на него какая-то сонная одурь и коченение. Не от холода, а так – от безделья и уныния. Порой от лени не мог и огня разжечь. Огонь разжигать – руками скоро махать требуется. В одной руке кремень, в другой – также кремень, только со жгутом. Вот и искри до той поры, покудова жгут не возгорится. А как затлеет жгут, не зевай – дуй на него, чтоб огневое пламечко родилось. Тут и вся наука.
Страдает Никита и от бесхлебицы. Мясная снедь хоть поджариста и пахуча, но без соли и ржаной корочки пресна и безвкусна. Зато питье степное родниковое – пить, не испить. Жаль, что не во что брать, - ни тебе горшка, ни кувшина. Смикитил все же. Изловил лисенка. Пришиб. Шкурку чулком с него содрал, над огнем высушил, растянул. Один конец, что поуже, завязал – вот тебе и посудина
для ношения воды.
Как-то пошел к источнику. Наклонился над ручьем и ахнул: кто это такой бородатый глядит на него из воды? Да это же он сам! Показал ему язык. Тот, что в воде, тоже ему язык кажет. Развеселился Никита. Идет к своей норе. Слышит, невдалеке хрустнуло что-то, будто у него под стопою. Обернулся – никого. Только вроде бы мелькнуло что-то за дальним стволом.
- Зверье шатается! - решил он.
Идет, бурдючком с водой помахивает. Размечтался: вот добуду еще пару лисят - обувку себе зимнюю справлю. Эх, простофиля же я! Сколь этого зверья летом было! Все, валяясь в траве, жаворонка слушал!
Ночи морозными стали, а вскоре и снег упал. Бело вокруг. А следов-то! Заячьих, лисьих и прочих, но их Никита не разумел по незнанию.
- Ну, - думает, - с голодухи не сгину.
Заострил палицу, пошел на промысел по первоснежью. Снежок под ногами скрипит, да глазок слепит. Душе - свежесть, молодости - радость!
Расставил он петли-переметы, да зорко поприметил места. За дубовым стволом, что у оврага, снова мелькнуло что-то.
- Что за напасть, - думает. - Чудится что ли? Пойду, гляну, есть ли след на снегу? Если нету - примерещилось, значит.
Подошел к дубу - нет следов ни звериных, ни человечьих.
- Это у меня морок в голове от одинокого житья, - решил Никита.
Все бы хорошо, да уж больно ночи стали холодны. Ветры гуляют по полю, такие колючие, что изо всякой щели и норы теплый дух выветрить норовят. А тут вскоре и топить нечем стало. Все изжег. Из-под снега былье и стерню полынную дергает, да разве много надергаешь?
В балках, в оврагах снегу намело – не пролезть. А хотя б и пролез, что толку: кусты рубить надо, а чем рубить? Белым днем хворост собирает, ночью сжигает. Измаялся, так-то живучи.
Расходилась как-то к ночи буря, да такая свирепая, такая заунывная, что такой еще не было. Последний хворост испепелил. Не нагрелся однако. Стал плясать вприсядку, руками себя похлопывать, чтоб не задубеть вовсе. Чуток помогло, но не надолго. А вьюга сильнее прежнего ревет, волком воет, стонет на все голоса.
- Вот и конец мне, - думает парень. - Одолела меня зима.
Сел в уголок, съежился - стал смерти дожидаться. Только зажмурился, как слышит в норе кто-то удушливо так заперхал: - Кхе-кхе!
Открыл Никита глаза, видит, стоит перед ним старик черный, за копченный, сутулый. Спина широченная,
бородища, что метла, глаза зеленые и глубокие, а в них искорки разноцветные играют и перемежаются. Сычом зырит. На ногах то ли сапожищи, то ли онучи – не разобрать толком. Кафтан на нем грязный, изгвазданный. На голове ермолка.
Стоит, варежками похлопывает, а из тех варежек пыль черная пырхает. Весь он какой-то не то чтобы злодей, но и недобрый. Сказал басисто, удушливо, вроде бы как с усмешкой:
- Что, родименький, зябко? - пробасил так-то и стаял в зеленоватом дыму. Выскочил за ним Никита из укрытия.
- Дед! Дед! - кричит. А того как и не бывало. Только следы черные на снегу от его сапожищ. А буря ревмя ревет. Света белого не видать.
- Да откель ты взялся?! - кричит Никита. А ему метель ответствует будто:
- Из земли, из земли!
Поворотил парень к своему убежищу. Глядь - у входа вязанка дров лежит добрячей бечевкой свитая.
- Был же дед всамделе! - думает Никита. - Дрова-то вот они! Стало быть – не привиделось!
Развел огонь. Теплом дыхнуло. Стал дедовы поленья осматривать. Уж такие они черные, обугленные, будто их кто на пепелище сбирал.
- Ну, дела! Чудеса, да и все тут!
К утру метель улеглась, а к ночи ударил такой морозович, что чутко было, как в дальней балке трещат ясеневые стволы. На чистом небе проросли и замерцали ядовитые звезды. Дрова кончились. В полночь вновь появился дед. Кашляя, молвил угрюмо:
- Подь за мной, не то сгинешь тут!
Пошли. Дедка впереди - Никита следом. Ходили долго. По буеракам, степью и долом, вдоль незамерзающих ручьев, по лощинам и крутоярам. Никите часом сдавалось, что хрыч нарочно путает след, водя его в потемках. Когда па восходе чуть заалело, уткнулись в какое-то степное жилье.
- Входи, входи! - подтолкнул дед парня вперед.
- А ты, дедушка?
- Я-то? Мне зачем. Я вспять пойду.
Оглянулся Никита. Растаял дед. Нету деда. Лишь следы чернеют на снегу.
Очумел со страху молодой, да как затарабанит в дверь. А двери-то и нет. Полог это войлочный. И не строение это, а кибитка степного кочевника.
Открыл Никита очи и не разумеет, где он. Сидит рядом чернявая узкоглазая красавица с плоским ликом. В углу на пестром тряпье мужик в малахае и скалится ему приветливо. Головой кивает, дескать, будь как у себя в дому!
- Где же это я? - думает Никита. - И кто эти люди?
Вспомнил, как говаривали давно, что живут еще в Дикой степи осколки хазарского племени и печенежье отродье. Это верно они и есть. Как же говорить с ними стану, языка их не ведая? А девка склоняется над ним и вдруг пытает его:
- Ну, что, отогрелся? Вот травки еще малость попей, вовсе здоровым будешь!
И улыбается. Зубки у нее ровные, белые. Носик чуть с горбинкой, глазки раскосеньки, губки красненьки, будто только что малину ели.
- По-русски разумеешь? - дивится Никита, - а я-то думал не сговоримся. Ты кто?
- Я Марфида. Это по-нашему. Ты ж зови меня просто Марфа. А тебя как зовут?
- Никитой зовут! Вы, что ж, тоже беглые, аль как?
- Мы не беглые. Степные мы испокон веков, а говор наш с вашим одинаков. Это от соседства с Русью. Сказывают, что бранились, мы прежде, но сейчас ничего. Мирно.
Говорит это она, а сама смеется. Бровью водит. О чем бы речь не вела, все с улыбочкой, с жеманствием кротким. Такая прелестница!
- Степь, для нас, что для тебя избяная улка. Для нас зима - не беда. Сухим навозом топим. Оно хоть, и курно, однако тепло и от застудных хворей полезно.
Прошло несколько времени. Вот Никита говорит отцу с дочерью:
- Не хочу задарма ваш хлеб есть! Стыдоба мне!
Его утешают:
- Уймись ты, да разве последнее мы доедаем?
Угомонили. Видит он, что Марфида с него глаз не сводит, а через время и сам
понял, что об ней только и думает.
- А что? Обженюсь я! Деваться мне некуда, тут, видать, моя судьба!
Сговорились молодые. Падают отцу в ноги: благослови! А тот - ни в какую. Дескать, нельзя так. По весне пусть едет дочь к русскому попу, обкрестится, вот тогда пускай идет себе замуж. А сейчас никак нельзя. Камянная мать осердчает.
- Что за мать? - невдомек парню.
Та, что на макушке кургана стоит, руки на животе сложила, плод свой лелеет. Никак не разродится!
Отецкое слово - закон! На том и порешили: до весны.
Ждут-пождут весны молодые. Всякий час на солнце глядят. А оно, солнце-то, что ни день, все выше и выше восходит. Вот уже затенькала синица. На снегу пролегли долгие голубые тени от высоких кустов боярышника. В глухие ночи оттепелей в балке на сырых ветвях ольхи гуняво ухает ушастый филин. Воронье подолгу сидит на подталых сугробах – верная примета скорой весны. Враз задул теплый ветер. Снег начал таять и сходить в овраги говорливыми ручьями. Потянулись стада гусей и уже на весенних пролетах стала чаще задерживаться краснорябая птица вяхирь - предвестница скорого тепла. Оживилась степь и как-то наспех обрядилась в зеленоватые одежды. На плешивых суглинках, где уже солнышко управилось с работой, бойко заюлили у своих нор прыткие хомяки.
Как-то грелись на пригорке молодые. Марфида возьми и спытай Никиту в который раз:
- А не врешь про деда?
- Ей-ей, не вру! К чему мне врать!
- Сколь живем здесь с батюшкой, про такого и слыхом не слыхивали.
- Да был же дед! - в сердцах уверяет Никита.
- У нас в степи говорят: как околевает от стужи человек, ему всякое видится.
Может, и с тобой тож...
- Хочешь верь, хочешь не верь - воля твоя, а дед был!
- Ну был, так был! - соглашалась девица и смеялась своим дивным смехом.
Вдруг сказала:
- Не сыскать ли нам его? Ведь недалече где-то он, коли всамделе есть!
Утром нового дня собрались наспех и ушли тихонько. Пошли наугад вдоль крутояра в низину. Долго брели. Никита говорит:
- Вроде бы тут где-то. Вот и ясень стоит. А чуть поодаль в балочке нора моя.
Пойдем глянем, все ли в ней как было.
За зиму нора обвалилась. В глубь ушла.
- А это что такое? – указует Марфида на черные блестящие камни.
- Кто их ведает! - отвечает парень. - Камни да и камни. Грязные какие-то. Руки-то не марай! Брось!
А она - человек степной, дотошный. Ей до всего дело есть.
- Нет, - говорит, - наберу я этих камней в мешок, отцу снесу, - может, он знает!
Побродили они еще чуток, да и повернули к становищу. Идут по степи, круженью весны любуются. Вдруг слышат позади себя:
- Кхе-кхе! - удушливо так. Обернулся Никита - дед! Плетется за ними. Парень девку за руку дергает:
- Гляди-ка, дедка! тот самый!
Смотрит на него Марфида, и так ей, видать, жахливо стало, аж с лица сошла.
- Чего тебе, дедушка? - кричит Никита.
- Торбу с камнями верните, - бубнит тот.
- Зачем тебе?
- Мое это!
- Как же это твое, коли и торба наша, и камни эти тоже нами найдены!
А хрыч знай свое:
- Мое это! Мое!
Смеется Никита:
- Ты дедушка, не спятил ли?
Марфида парня за руку тянет:
- Да пойдем шибче от него. Не по мне все это!
Пройдя с полверсты, обернулись. Глядят, а дед стоит на месте, бьет себя по лодыжкам сокрушенно, а вокруг него вихорь черный вьется.
Пришли к себе. Батьке показывают, что в мешке приволокли. Тот головой качает:
- Не знаю такого не ведаю!
В ночь прокинулась Марфида с великого испугу. Стенает, душно ей! Вывел ее
Никита из кибитки свежестью дыхнуть. В потемках споткнулся о мешок с камнями.
Чертыхнулся:
- А, гори ты ясным огнем!
…Тут-то оно и затлело вдруг, а потом как полыхнет синим пламенем, огнем-заревом. Да такая жарища в одночасье образовалась, что хоть воду в бадейке выноси, не то закипит.
Как подсохло совсем, понаехали к их жилью степняки на весенний праздник.
Кобылье молоко пьют. Стрелы из луков мечут – кто прицельней и дальше. Песни
чудно играют – горлом. Закололи жеребенка и повезли к камянной бабе. Горланили чего-то до вечерних зарниц. Утром делом занялись, начали коней ковать. Развели огонь на древесном угле. Раздули меха. Глядит Марфида на это и говорит ковалю:
- Долго железу греться в горниле покуда до белого коления оно дозреет. Знаю, - говорит, - где уголья камянные. Вот от них жар не то, что от этой древесины!
Снарядили повозку. Поскакали к Никитиной дыре. Стали мужики-степняки угольные куски отковыривать да в возок бросать. Отошла девушка от них чуть поотдаль – новую дыру нашла, а в ней тоже уголь. Только чует она, как откуда-то снизу подвальным духом пахнуло. Теплынью с застоялой сыростью. Запустила
она глазок в третью ямку и обомлела со страху. Кто-то черный и страшный на нее гляделки выпучил Бородища, что веник. Скрюченным пальцем грозится. Бубнит как в трубу:
- Худо тебе будет, худо!
Приехали в стойбище. Бросили уголья в горнило. Кузнец только языком цокает:
- Ай да, огнище!
Вечером сели гости вокруг. Марфиду на семи войлоках усадили. Такой ей почет. Пьют чаши в ее честь говоря:
- Ты, дева, и сама не ведаешь, что за камень отыскала. Это ведь теперь кочевнику спасенье в студеные дни. Ай, да Марфида! А мы-то вековуем тут и не знаем про земляной клад!
Снится вскоре Марфиде сон. Подходит будто к ней тот самый дед и говорит:
- За то, что тайну угля прочла, быть тебе в моих кладовых запечатанной угольщицей. Закатываю тебя крепко – накрепко, черно – начерно словом камянным!
Взял ее за руку и повел в подземелье. А ей, вроде бы, и не боязно, а напротив: очень даже любознательно.
Богат кладовщик! Сколь же у него угля! Весь свет обогреть можно.
Прокинулись утром – нет Марфиды! Обыскали степь от Куземовского яра до Кибикинской криницы, так и не нашли девушку…
Смекнул Никита, чьи это проделки. Не зря трепетало ее сердце. Ушел на поиски суженой. Долго ходил. Набрел как-то на Горский родник, что у Тошковского поселения. Попил водицы. Только отошел версты две-три, видит у дороги цветок растет красоты невиданной – воронец не воронец и на гори-цвет не похож. Сорвал его Никита. Тут вдруг и донес ветер до него слова девичьи:
- Знай, - говорит, - Никитушка, где вот такой цветок растет, в том месте и уголь есть. Это назло старому скряге!
Припекло степное солнце, тут цветок и поник.
Идет Никита дальше по степи. Глядит, трудятся углежоги. В балке стволы пилят, на уголь переводят. Никита им:
- Братцы, бросьте это дело! Тут в земле, по которой топчемся, получше уголь
сокрыт!
Походил чуток, марфин-цвет отыскал и кричит:
- Ройте в этом месте ямку!
Ударили мужики заступом, и точно – вскоре угольный пласт обнаружили.
- Спасибо, - говорят, - добрый человек!
- Не мне спасибо, - отвечает Никита, - а девице – Марфе!
Ходит он по Великой степи. Как где сорвет марфин цветок, с ней чуток погутарит, а попадется кто встречный, место ему угольное укажет.
Только заприметил он, что цветка-то все меньше в степи становится. Что такое? Поглядел, как кто-то вдалеке ходит по буеракам и травы собирает. Подходит ближе: вот те на! Дед – кладов угольных хранитель!
- Мало тебе моей Марфы, так ты еще и цвет ее с кореньями из земли тянешь! – вскричал Никита!
- А это, чтоб про уголь меньше кто знал! – хихикнул хрыч. – Марфа-непокорница этим цветком из земли знак подает.
- Да что тебе угля жаль?
- Хозяин я углю этому! Мое это!
- Все равно заберет народ уголек-то!
- Может, и заберет, что мелко лежит, а глубже лезть устрашатся людишки.
- Ну, поглядим, поглядим, дай срок!
- Да чего тут глядеть!
- Марфу-то отпусти!
- Не отпущу за ее норов!
- Злой ты, дед!
- Какой же я злой, ежели тебя дурня от зимней стужи спас!
- Не меня ты спас, а от угольных пластов меня подальше свел!
- Смекалист ты да не очень. Вот хворь меня душная одолела. Коли хваткий ты мужик, сотвори мне узвар из всех полевых трав на всех степных водах. Исправь это дело, тогда Марфу отпущу.
- А сам не могешь?
- Подслеповат я! – сказал так и стаял, как в те разы.
Воротился Никита к Марфиному отцу и рассказал, что как есть.
Говорит отец:
- Брось это дело: хитер страж угольный. Неисполнимая эта загадка, потому что каждому цветку, всякому корешку – свой час. Вода же изменчива, как лед и дождь.
Не поверил степняку Никита, торопко в степь ушел. Идет ли полем, бредет ли долом, все в землю глядит. От разнотравья рябит в глазах. Тут тебе и типчак с ковылем, пырей да вязель, дрок и сон-трава, птицемлечник и коровяк. Мудра степь-матушка. Для обитания на сухих и каменистых местах дала она травам крепкие стержневые коренья. Иные из них в глубь ушли до полутора-двух аршин.
Спускается Никита на дно глубоких балок в заросли крапивы и душистого подмаренника. В поймах ручьев, в черноольхавых лесах затаилась маун-трава, купена, папоротник и девясил – Христово око.
Все, что не сыщет, срывает и бережно кладет в торбу. Все бы хорошо, не налети невесть откуда суховей. Уж как он юлил-кружил по степи, иссушая землю.
Припал к ногам Никиты насвистывая:
- Хорош ли я добрый молодец, скор ли я?
- Недоброе ты, ветрило степное! – вскричал молодой. – Зачем травы степные поиссушил? Угомонись!
- Ну, будет тебе! – пропел суховей и погнал волною поседевшие ковыли.
Нагнулся к земле Никита, видит, пожухли травы, поникли долу.
- Ладно, - думает, - пойду воду от степных речек собирать.
Много рек перевидал. Дивился их названиям: Сухие Ялы, Сухой Торец, Сухая Волноваха, Сухой Еланчик. Отчего бы это?
Идет от ручья к ручью. А солнце степь выжигает зноем. Ярится. Никита, серчая его поругивает:
- Ах, ты ж, сковорода каленая! Нет и тебе угомону! Сжалься над степью! Вон и
земля будто губами треснувшими молит: пить-пить!
- Неласков ты со мной, Никитушка! – ответствует светило. – Уж я тебя проучу!
Отовсюду набрал водицы Никита. С последней мелкой речушки осталось
черпнуть. Подошел к ней. Умаялся так, что нет больше мочи ноги волочить.
- Отдохну чуток, а после и зачерпну из ручья. Вздремнул под кустом. А как прокинулся – глядь, а ручья-то и нет. Высох ручей. А солнце в вышине хохочет:
- Что? Проучило я тебя за дерзость!
Является Никита к Горскому роднику, к тому месту, где впервые марфин-цвет сорвал. Раздобыл казан, развел огонь. Деду узвар готовит, как уговорились. Всю ночь до зари остывало в том казане дедово пойло. До того как взойти солнцу, загудело где-то в земле.
Прокинулся парень, а кладовщик уж тут как тут. Откашлялся, присел. Достал глиняный кубок, питья зачерпнул. Пьет и в бороду дует. Тут заря взыграла. Встал дед и стал уходить молча.
- Отпусти Марфу! – взмолился Никита.
- Не полегчало мне! – ответил Кладовщик. – Чегой-то недостает в узваре-то! А уговор – свят. Меня более не увидишь. Что-то неспокойно тут наверху. Людишки заходили, мое добро ищут. Житья не стало!
Однако соврал дед. Под вечер явился. Заходясь в кашле, сказал, что нет более Марфы. В глухие породы ушла.
Долго горевал Никита. В скором времени невдалеке от Горского родника угольный пласт вскрыл. Стал уголь копать помаленьку, да степнякам возить в обмен на одежду и харчи.
Вот и весь сказ про Кладовщика… Только если ехать из Лисичанска Мирным долом в Тошковские места, издали виден высокий курганище. Исстари зовут его здесь Марфиной могилой. Тут, по преданиям, и Донбасс зачинался.
См. также[править]
Евгений Коновалов. Байки, сказы и бывальщины старого Донбасса
- Дырявый кафтан
- Атаман
- Шахтерская дочка
- Шубин
- Мария — глубокая
- Деньги От Шубина
- Чудный Иван
- Мышка-полевка и Аришка-аршинка
- Два коногона
- Сказ Сорвиленской горы
- Шахтарчук
- Каменная баба
- Про жадного шахтовладельца и золотистую крысу
- Бархатная злодейка, гремучий дедушка и веселящий понюшок
- Притча об угле
- Чертов палец
- Синий заяц
- Как Митяй землепроходцем стал
- Милое сердце
Евгений Коновалов. Гори, гори его звезда
Евгений Коновалов. Старые шахтерские профессии
| Данный текст/изображение/группа изображений, созданный автором по имени Евгений Коновалов, публикуется на условиях лицензии Creative Commons Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) 3.0 Unported. |